Лето, ночь, астрономия
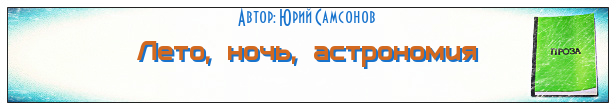
Небо было чистым и звёздным, как и моя любовь к Лерочке. Она была изящная и маленькая, с прелестными ножками и с глазками персидской княжны. Мы пришли в поле смотреть на звёзды. У нас был хороший телескоп.
Сколько ж мне было тогда? Вспоминая юность, в первую очередь думаю не о датах, а об увлечениях, которым отдавалась моя впечатлительная и неугомонная душа. А они были у меня самые различные и неожиданные, точно холмистая местность с дикими цветами. Случайно заметишь незнакомый цветок, идёшь к нему, преодолеваешь ухабы с оврагами, и вдруг по пути замечаешь другой, ещё красочней и таинственней прежнего. И вот ты уже забываешь о старом цветке и глядишь, как бы подобраться к новому.
Как-то я увлёкся пиратами. Десятки книг, морская наука, навигация и всяческие карты. Джек Лондон, Рафаэль Сабатини, Стивенсон и Жюль Верн были моими наставниками. Всё это мне быстро приелось, потому что однажды я увидел кино про белых медведей. И моей новой страстью стали мишки и Северный полюс. Теперь я с нетерпением ждал зимы, мне хотелось видеть снег и чувствовать холод — хоть какое напоминание о далёких, суровых краях.
Однажды я провёл каникулы у бабушки, всё лето пытаясь быть похожим на Тома Сойера. Чем принёс бабушке и соседям немало хлопот и вреда, целые дни проводя в раскопках и поисках всевозможных сокровищ. Однако, была от меня и польза — я с удовольствием красил всё, что попадалось мне и что можно было покрасить.
Различные виды спорта и игры: футбол, бокс, хоккей, даже биатлон — всё это тоже овладевало моим сердцем на какое-то время. Овладевало крепко, но, увы, ненадолго.
По правде говоря, увлечения мои не всегда были такими романтичными и безалаберными. Совершенно неожиданно для себя увлёкся я точными науками. И как же удивлялись мои учителя, когда я начал делать успехи в том, что они все эти прошлые годы насильно вдалбливали мне в голову, — чего я не понимал раньше. Теперь мне далась и алгебра, и физика, а в моей комнате на стене появились портреты Фарадея и Ньютона.
И ещё сколько всего было! Фарадей и Ньютон без сожаления отправлялись в отставку. На смену им приходили Багратион с Наполеоном и прочие усатые и не очень усатые вояки. Но интерес к ним пропадал так же, как когда-то дым над Бородинским полем. Хотя мне и казалось, что последнее моё увлечение, моя страсть — это всерьёз и надолго.
Такою же казалась мне и любовь к Лерочке.
И новое увлечение, господствующее тогда над моим разумом.
Я боготворил астрономию. Ещё недавно мне было плевать, что вокруг чего вертится. Но, благодаря ли высшему року, или же случайности, я засмотрелся однажды в небо, и оно показалось мне совсем другим. «Звёзды, — пришла мне мысль, — самое чистое, недоступное и таинственное волшебство природы. И до чего же обидно, что многие из нас не знают ни названий их, ни их космических биографий».
Не прошло и двух месяцев, как у меня появился первый телескоп. Это был простенький линзовый прибор, в который можно было смотреть разве что только на луну да на соседние дачи. Я с неуёмным аппетитом поглощал литературу и фильмы о Вселенной. И каждый новый, шокирующий меня, но давно известный образованным людям факт, возвышал меня на поднебесные высоты; я трепетал от восторга и от сознания того, что всё это могло пройти мимо меня, а вот не прошло, и я знаю всё это.
Каким счастьем была покупка нового, более мощного телескопа! Первый мой прибор был против него просто игрушкой. До лета оставалось несколько недель, а я уже умирал от нетерпения. Представьте радость школьника, которому достался мощный телескоп-рефлектор, с огромным объективом, экваториальной монтировкой и с набором качественных и самых разнообразных линз. Надобно сказать, что я действительно заслужил эту покупку. Я дал обещание родителям закончить год на «отлично», и мне пришлось подтягиваться по немецкому языку и химии, где у меня были «твёрдые тройки». И у меня вдобавок к астрономии появились новые страсти. Теперь мне приносили радость сильные глаголы, Nominativ c Genetiv-ом, а от знания того, что водород — главный элемент вселенной, я приходил в восторг.
Лерочку я плохо помню. Может, это оттого, что она была моей подругой только одно лето, а, может, и оттого, что тогдашняя любовь к небесным объектам была сильнее, нежели сердечная привязанность к Лерочке. Сияние звёзд затмило блеск Лерочкиных глазок. Я и не помню, какого цвета они были. Помню хорошо, что Бетельгейзе — красный гигант, Альдебаран — оранжевый, а Альфа Ориона — голубая. Но цвет её персидских глаз не помню.
Мне казалось, что и Лерочке будет интересны звёздные наблюдения. И она действительно была в восторге от наших ночных свиданий. Она всегда с нетерпением лезла к окуляру, мешала мне настраивать телескоп. Подпрыгивала от восхищения, когда мне удавалось показать ей самые простые объекты космоса, такие как Сатурн или Юпитер; всё заканчивалось обычно её нескончаемой болтовней и подвижностью, которая мешала мне и моей науке.
Я долго терпел это. Тем более, что наградой мне было… в общем, что говорить о том, какие выгоды сулит присутствие под боком среди летней ночи красивой, свеженькой девушки.
Она часто задавала вопросы не к месту. А если к месту, то очень глупые. Астрономию она знала так же плохо, как и грамматику. Она не видела разницы между Ураном и Нептуном точно так же, как и не находила её в словах «ничего» и «нечего». И поэтому наши наблюдения сводились всегда к однообразным поискам Сатурна и Марса, к Лерочкиной непринуждённой болтовне, к резким движениям её ручек и гладких ножек; к охам и восклицаниям. Ей было весело. Она была весёлая девочка.
В эту ночь, как и во множество других, мы уединились в поле. Третьим участником, как всегда, был угрюмый, бездушный телескоп о трёх ногах и с трубой вместо головы.
Луна постепенно пряталась за лесом, который чернел далеко на западе, и потому небо было очень тёмным, и звёзды виделись замечательно. Млечный путь прорезал всю эту чашу пополам, точно пыльный след промчавшейся по небу огромной, фантастической машины.
Так было суждено, что любимых Лерочкиных Сатурна и Марса не было видно в эту ночь, а что такое «Галактика», Лерочка не понимала. Но я решил здесь и сейчас поправить это недоразумение.
— Вон Большая медведица, видишь? — начал я с простого.
— Вижу, — ответила она.
— Теперь смотри, — продолжил я, наблюдая за её личиком с надутыми, как будто обиженными, губками, — две звёздочки, те, что в ковше Медведицы… Видишь? Умничка. Если провести линию вверх, то будет Полярная звезда. Вон она.
— Мы будем смотреть на неё в телескоп?
— Нет, подожди. Терпение. Полярная звезда всегда указывает на север.
— А почему?
— Потому что она находится у так называемого северного полюса мира.
— Ага, я поняла.
Такой ответ мне понравился. Я вообще любил, когда меня быстро понимали. Почувствовав лёгкий кураж, я продолжал:
— Если хочешь знать, где север, смотри на эту звезду и никогда не ошибёшься. И не надо мне будет тебя встречать постоянно — ты теперь дорогу найдёшь сама.
Лерочка слегка толкнула меня и пуще надула губки — её обычная реакция на мои колкости. Но через мгновение снова прижалась ко мне. И тут я совершил опрометчивую ошибку. Сказал, что до Полярной звезды 434 световых года. Для неё слово «год» устойчиво ассоциировалось только со временем. Но вместо того, чтобы поинтересоваться, узнать, что такое этот «световой год», заполнить пробел в своей белокурой головке, она задала совершенно далёкий от темы вопрос. К чести её сказать, вопрос был астрономического характера.
— А какое увеличение у этого телескопа?
Бедная Полярная звезда так и не впечатлила Лерочку!
Я ответил, что увеличение не так важно, как диаметр объектива. Она посмотрела на меня несколько секунд и прыснула со смеху. Даже здесь её невинный ум нашёл плоскую и пошлую шутку. Однако, смеялась она от души и довольно долго. Я сделал вид, что и мне смешно, хотя на самом деле в это мгновение я почувствовал приток невыносимой тяжести к сердцу; и смертельную грусть, смешанную с унынием. Мне было грустно… потому что было весело Лерочке. Я, кажется, начал понимать Лермонтова.
Мне хотелось показать Лерочке галактику Андромеду. Я очень любил этот космический объект. Потому что он — самый дальний из всех, которые можно наблюдать невооружённым глазом. Но ведь мы с Лерочкой были вооружены, и довольно неплохо. Я всё ещё был в «астрономическом кураже», хотя уже немного подпорченном моей любимой девочкой. Слова «туманность Андромеды» никак на неё не подействовали. А после того, как я показал, как с помощью созвездия Кассиопеи находить Андромеду, и указал на тусклую звезду в восточной части неба, Лерочка даже как будто расстроилась. Что, мол, такого в этой туманности, если она такая тусклая и обычная?
— Ага, я поняла, — сказала она. В её лице я увидел разочарование.
— Так, так, — бормотал я, — вот, ещё немного, и… есть! Вот она. Сейчас, немного подкорректирую. Лерочка, не дави мне на плечо, подожди немного. Вот, теперь смотри!
Я боялся, как бы она от нетерпения не сбила монтировку. Но Лерочка осторожно, даже вяло приблизила глаз к окуляру.
— Там какое-то пятно, — сказала она.
— Подожди немного, сейчас сфокусируется.
— Боже, да оно похоже на… как это называется?
— На спираль похоже, — подсказал я.
— А что это за спираль? Как оно называется?
— Это та самая галактика Андромеда. Та несчастная, крохотная звёздочка, которую я тебе показывал.
Лерочка с недоверием посмотрела на меня. Она глянула в небо, потом снова в окуляр. Долго, очень долго она смотрела на Андромеду, не сказав ни слова. Ей было не понять, как это в небе видится одно, а через телескоп совсем другое, почти чудесное! Я был в восторге. «Наконец! Свершилось! — думал я. — И её поразила стрела космической любви!» И я смотрел на Лерочку глазами, полными обожания.
— А почему эта звезда такая? — спросила она наконец.
— Это не звезда. Это галактика.
— Ага.
Я видел, что она не понимает. Чувство долга заставляло исправить это.
— Это не звезда, а целых триллион звёзд. Просто до них… — я хотел сказать «два с половиной миллиона световых лет», но вовремя одумался. — До них очень далеко. Поэтому эти триллион звёзд мы видим как одну маленькую звёздочку.
— А сильно далеко они?
Что ж, подумал я, иначе ведь и не скажешь.
— До них два с половиной миллиона световых лет. Это расстояние, которое свет, скорость которого триста тысяч километров в секунду, проходит за два с половиной миллиона лет. Понимаешь?
— Я-то понимаю. Просто скажи мне расстояние. Без всяких этих… как их?
У Лерочки, не к чести её сказать, был очень скудный словарный запас. Но в большинстве случаев это не мешало нам общаться. Я почти всегда понимал её. И она всегда хотела меня понять. Что я любил в ней, так это жажду знать всё точно. Когда я говорил, что Юпитер — самая большая планета, она спрашивала, сколько километров в нём? Сколько килограмм? Ей было интересно, сколько весит телескоп, какая длина у его ножек, сколько километров до неба? Сколько? — таким был её любимый вопрос.
— Смотри, — начал я как всегда с простого. — До Солнца 150 миллионов километров. Представила? Скорость света — триста тысяч километров в секунду. Ясно тебе?
— Ага.
Но я видел, что ничего ей не ясно. Однако, надо было для собственной совести закончить эту лекцию.
— Свет от Солнца идёт к нам за восемь минут. Получается, что Солнце мы видим с восьмиминутным опозданием.
Я всё это говорил рефлекторно, не заботясь о том, понимает ли это моя Лерочка, и как она всё это отнесёт к галактике Андромеды.
— Не знаю, — сказала Лерочка, — причём тут Солнце? Как это с опозданием? И вообще, на Солнце смотреть можно только два раза. Правым и левым глазом.
От этой высокосортной шутки мне захотелось повеситься.
— Сколько до этой твоей Андромеды? — не унималась Лерочка.
Я знал, что мне не отвязаться. Задав какой-нибудь вопрос, Лерочка не отступалась, пока не получала ответа.
— Два с половиной миллиона световых лет.
— Бла, бла, бла. Короче, не хочешь — не говори.
Она отошла от меня, скрестив руки на груди. Взгляд у неё был сердитый.
Я попытался приласкать её, но она отвергала все мои попытки. Ночь испорчена! И всё из-за каких-то световых лет! Мы поссорились из-за световых лет, хотя до Лерочки было всего несколько метров, рукой подать.
— Ну, Лерочка, — говорил я ласково. — Солнышко, зайчик, котик…
Ничего не помогало.
Почему-то я вспомнил о Джордано Бруно. Очень давно церковный трибунал признал этого великого человека «нераскаявшимся, упорным и непреклонным еретиком». И всё из-за расхождения взглядов этого философа с официальными, церковными канонами. Бруно говорил, что звёзды — это далёкие солнца, что существует ещё много миров, подобных нашему; что Вселенная бесконечна, а мы — лишь малая часть её.
Церковь сожгла великого философа. Он не отказался от своих убеждений.
Но я был слаб тогда. Один вид лерочкиных ножек затмевал во мне все убеждения и принципы.
Я подошёл к ней, глубоко вдохнул и сказал, что расстояние до Андромеды где-то около миллиона километров. А световые года — это выдумка самоуверенных учёных и не более.
Через десять минут она снова шутила со мной.
Автор: Юрий Самсонов
Фото: Антонина Гракович
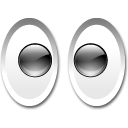 1 485
1 485
