Ртуть

Люся и Таня Когутенко с Восточной Украины, а может быть, с Западной… Вас разыскивает девочка Оля из Филатовской больницы, разыскивает давно и безрезультатно — с самого начала войны.
Сначала все думали, что это корь. Поднялась высоченная температура, тело покрылось гнойниками, веки почти не поднимались, как у Вия из страшной сказки. Потом увезли в Морозовскую больницу и там долго закалывали антибиотиками. Сначала стало лучше, потом — опять хуже. Прошел еще месяц. Уже не было сил подниматься, есть, даже переворачиваться на другой бок. Тогда вспомнили о том, что, вроде бы, в пионерлагере летом лечили какой-то ртутной мазью и взяли анализ крови на ртуть. Анализ показал ртутное отравление — запущенное, из тех, что укладывает здоровых и крепких детей в ящики, обитые атласом и шелковыми лентами. Опять приехала «скорая», еще одна «скорая». Так я очутилась в реанимации Филатовской детской больницы.
Мне уже ничего не светило — все это понимали, кроме меня. Дети вообще не догадываются о таких вещах — в этом еще одна прелесть детства. Отделение было из «тяжелых», умирали в нем часто. Как-то на моих глазах умер трехлетний пацан — играл дома в больницу и наглотался таблеток. Я заснула, когда над операционным столом зажглась эта ужасная синяя лампа, а проснувшись, слегка удивилась, что кроватка с прутьями рядом со мной пуста. Лампа была выключена, в реанимационном зале полутемно и тихо. «Куда они его дели?» Я приподняла голову и увидела на операционном столе очертания коричневых ребячьих ног. «Офигели, что ли?» Он же проснется и свалится…» Пришли смеющиеся медсестры, завернули пацаненка с головой в одеяло, потом еще в клеенку, утащили куда-то, а наутро я познакомилась с Люсей.
Я открыла глаза — и увидела прямо над собой темные внимательные глаза. Девочка тряхнула головой — и в глазах моих запорхали светло-коричневые мотыльки. «Снится…» — подумала я и вновь зажмурилась. Горячая ладошка погладила мою щёку. «Тебя как зовут? — спросил девчачий голос. Я вздрогнула и совершенно отчетливо увидела перед собой девочку лет двенадцати — смуглую, очень живую, в красном халатике, смешно пахнущую ирисками. Она сощурила слегка раскосые глаза на спинку моей кровати — там была прикреплена бирка с именем и диагнозом. — Значит, Оля?» «Значит, Оля!» — повторила я ее слова. «Люся! — раздался позади резкий голос медсестры, — А ну-ка марш отсюда!»
С тех пор я лежала, повернув голову к входной двери. Я ждала Люсю. Но в дверь входили и выходили врачи и медсестры, вносили и выносили новых ребят — малышей, отравившихся таблетками, или юных самоубийц, не поладивших с родителями, а то и решивших свести счеты с жизнью из-за несчастной любви. Обычно на другой день всех их переводили в общую палату — всех, кроме меня. Однажды привезли грудную девочку — и я удивилась, почему про таких вот маленьких говорят «кукла». Девочка была совсем не похожа на кукол — вся красненькая, с жесткими черными волосиками и почти незаметными щелочками глаз, она все время плакала. Я слушала ее плач — и думала о Люсе.
Внезапно я увидела ее — Люся, милая Люся, заглянула на секунду, но смотрела вовсе не на меня, а на этого дурацкого пупса. «Он плачет, а ты лежишь…» — произнесла Люся, как мне показалось, с заметной укоризной. И исчезла снова. Теперь я, кажется, поняла, что мне нужно делать, чтобы заслужить ее дружбу. И просто не могла дождаться, пока малышка снова заплачет. Долго ждать не пришлось. Я поспешно поднялась, оттолкнулась от кровати — и тут же рухнула: ноги, отвыкшие за несколько недель от ходьбы, не держали меня. Но можно ведь было ползти! И я поползла на детский крик, перебирая руками по каменному полу, я добралась до малышковой кроватки и ухватилась руками за железные прутья. Что делать дальше, что? Я подняла глаза и вновь увидела Люсю — без всякого страха она стояла рядом со мной, разглядывала пупса, не догадываясь о том, что это девочка.
«Да он мокрый, — деловито сказала Люся. — А где у вас тут сухие пеленки?» Я указала рукой на шкафчик в углу. Люся порылась в шкафу, вытащила пеленку, потом нагнулась над кроваткой и взяла на руки плачущую девочку. Огляделась. «Положи на мою кровать, — тихо сказала я. Теперь, когда я не могла видеть Люсю (ее закрывал остов кровати), меня охватили одиночество и тошнота. «Ты чего? Ну-ка давай, иди сюда!» Этого еще не хватало! «Я сама могу… просто я устала» Сильные девчачьи руки подхватили меня под мышки. Кое-как мы добрались до кровати. Я вцепилась руками в простыню, чтобы не упасть на Люсиных глазах. Сидеть было трудно. Сквозь рябь в глазах я отчетливо различала, как Люся заворачивает младенца — и края пеленки под ее смуглыми пианинными пальчиками представлялись мне лепестками какого-то диковинного цветка. А еще у нее оказались веснушки. Обыкновенные детские веснушки на вздёрнутом носике. Прошла еще неделя. Я очень боялась, что Люсю выпишут, и я больше никогда ее не увижу. И я решила действовать.
Для начала нужно было вновь научиться ходить. Обычно кто-то из медсестер вытаскивал меня в пахнущий хлоркой, абсолютно пустой коридорчик — «Когда я вернусь, ты должна дойти до того конца…» Это было то же самое, как если бы мне предложили добраться до Луны! Когда вдали затихали шаги, я опускалась на четвереньки и ползком быстро-быстро добиралась до цели. Теперь требовалось подняться на ноги — иначе обо всем догадаются и станут меня контролировать. Я вцеплялась в раскаленную батарею — и не замечала ее жара, каждый раз вспоминая андерсеновскую русалочку, которой каждый шаг причинял, должно быть, такую же нечеловеческую боль. Потом я сделала первые шаги. И, наконец, стала передвигаться — медленно, держась за стенку, но сама. Я пила молоко, надеясь, что силы вернутся ко мне, но они не спешили возвращаться. Я услужливо подала медсестре Светочке расческу, когда она в сотый уже раз за эти недели предложила расчесать мне волосы — но, глянув на свое отражение в блестящей кружке, испытала смущение как перед незнакомым человеком: я никогда прежде не видела этот призрак, обтянутый китайской желтой кожей. Мою судьбу решил обход во главе с главврачом отделения. «Переводите в общую палату… девочка же явно скучает по сверстникам… там сейчас две сестренки тоже со ртутным отравлением, ее ровесницы…» «Люся?» — чуть не крикнула я. Медсестра стала что-то вполголоса говорить главврачу. Если бы у меня было достаточно сил, я бы точно ее убила! Но врач — счастье, счастье! — досадливо отмахнулся: «Ну, тогда переведем обратно в реанимацию, всех-то дел!»
Я увидела их вечером этого же дня, когда вошла за медсестрой в палату девочек. Люся — не в привычном красном халате, а в просторной полосатой пижамке — полулежала на кровати возле окна, на соседней сидела крупная голубоглазая девочка постарше и доставала что-то из яркого пакетика. Третья кровать — напротив Люси — была свободна. Рядом с ней медсестра поставила мои вещи. Девчонки переглянулись и дружно закричали «Ура!»
Люся начала меня спасать. Никто и никогда не спасал меня с такой силой, с такой яростью, как две «ртутные девочки» — Люся и Таня. Им, впрочем, повезло больше, чем мне: где-то и как-то они надышались паров ртути. Обошлось, к счастью, без реанимаций и капельниц. Люся угощала меня яблоками — огромными и красными, как первомайские шары. Я никогда не видела таких яблок — вот если бы еще были силы удержать в руках эту звонкую, гладкую громадину! Обычно я лежала на кровати неподвижно, окруженная сестренками и украинскими яблоками. Люся зорко следила за мной, подмечала каждую мелочь. «А зачем вы ей этот массаж делаете? — бесцеремонно спросила она однажды молоденькую полноватую массажистку, каждый день приходившую ко мне. — Что от него толку? Она как лежала целый день, так и лежит…» По вечерам мы рассказывали друг другу смешные истории — к страшным же все трое здесь, в больнице, как-то потеряли интерес. В крови и смерти нет ничего занимательного, когда они постоянно мелькают перед глазами. Я начала подниматься и подолгу сидеть на Люсиной кровати. Иногда в отделении хлопали двери, быстрые шаги сменялись взрывами смеха — это Люся играла со мной в салки.
Потом их выписали — Люсю и Таню. Как водится, мы плакали, целовались и обещали помнить и любить друг друга вечно. Люся — в трикотажном песчаном свитерке — трясла меня за плечи, смеясь и плача одновременно: «Ты будешь писать мне, скажи, будешь, будешь?» Я долго смотрела в окно, пока они не скрылись за снежной простыней. Потом отошла от окна и легла ничком на Люсину кровать — подушка все еще хранила ирисковый запах ее волос. Несколько раз в палату заходили какие-то люди, о чем-то спрашивали меня, включали и вновь выключали свет. Зашла знакомая нянечка: «Что это еще за новости? Переляг на свою кровать, мне нужно снять белье…» Я даже не пошевелилась — и меня оставили в покое. Потом перед глазами сделалось темно — и я поняла, что наступила ночь. Первая совершенно взрослая ночь в моей жизни.
На следующий день меня выписали из больницы. Кожа моя еще долго оставалась пятнистой, как у олененка — там, где прежде были нарывы, появились коричневые пятна. Потом что-то такое случилось с сердцем — и меня на всякий случай освободили от физкультуры до конца школы. В старших классах я скрывала свое освобождение и занималась наравне со всеми. Даже в студенческие годы на теле оставались места, в которые можно было смело колоть иголкой — я так и делала на спор, вызывая суеверный восторг окружающих. Потом это прошло, все давно прошло у меня, Люся, кроме тебя. Одна ты — растрепанная, смеющаяся, в своем красном халатике по-прежнему живешь во мне. Крохотный ртутный шарик, спасший мне жизнь… Я никогда не писала тебе — оттого, что уродилась такой вот нескладной, к проявлениям чувств неспособной. Но если я не найду вас с Таней, если вдруг узнаю, что вас убили… Кровь должна быть отплачена кровью, Люся! Я своей не пожалею — это уж точно.

Автор: Ольга Козэль
Фото: Екатерина Мордачёва
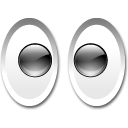 1 397
1 397