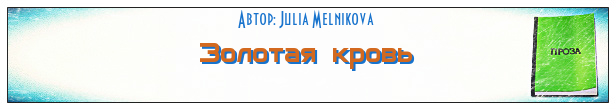Золотая кровь
Когда началась война, мне было всего 11 лет. Меня зовут Лиза. Лиза Осколкина, и я одна из миллионов детей без детства.
Я родилась в Ленинграде. В тот день, когда началась блокада, я сходила в школу, получила пятерку по математике и была крайне собою довольна. Я радостно бежала домой, чтобы рассказать об этом маме, но дома меня ждала совсем недобрая весть. «Город теперь закрыт», — сказала мама.
Передо мной «рухнул занавес», словно закончился последний акт в театре. Я не знала, что такое блокада, ведь я прежде о таком не слышала, но я понимала, что именно в этот день случилось что-то страшное, непоправимое, и прежняя жизнь уже не вернется.
В городе нарастала паника. Всюду бегали перепуганные люди и пытались скупить всё, что осталось в магазинах. Везде была давка, слезы, страх. Во взбудораженном Ленинграде сразу началась эвакуация. Прежде всего, отправляли детей вглубь страны. Моей матери неоднократно советовали отправить меня в безопасное место, но она не решалась отдать своего ребенка в неизвестность. А вместе со мной она не могла уехать, потому что работала на заводе, изготовляющем оружие для фронта, и расценивала отъезд как предательство Родины. Поэтому мы остались в осажденном городе. Мама трудилась на заводе по две смены и когда приходила домой — сразу ложилась спать. Я первое время посещала школу, но совсем не из-за тяги к знаниям, а просто потому, что там кормили.
С каждым днем жить в Ленинграде становилось всё труднее и труднее. Продукты в магазинах закончились, хлеб стали выдавать только по карточкам, и его было ничтожно мало. Голод всё уверенней входил в нашу повседневность и накладывал свою чёрную костлявую ручищу на наши жизни. Смертность росла с каждым днём: трупы не то, что не были диковинкой — их уже никто не замечал.
Так мы прожили два года. Два самых страшных и суровых блокадных года. В 1943 году, окончательно потеряв надежду на конец войны и мирную жизнь, мама начала искать возможность спасти меня от голодной смерти и отправить в эвакуацию. Сколько же было обито порогов, сколько слез пролито перед тем, как я оказалась в машине, с такими же тощими и одинокими детьми, как и я. И всё же у нас появилась хрупкая надежда на избавление от мук. И в тот момент, когда мы были уже так близки к свободе, на наши фургоны напали фашисты. Мы не знали, что будет дальше, думали, что нас сразу убьют. Мы сидели молча, пытаясь понять, что происходит. Немцы куда-то нас повезли. Сначала мы ехали на машине, потом нас пересадили в товарный поезд с деревянными стенами. В вагоне было одно маленькое окошечко наверху, а нас было больше сотни. Некоторые дети начали умирать прямо в поезде, некоторые сходили с ума. Не знаю, сколько времени мы были в пути, потому что была в полуобморочном состоянии, ведь нас ни разу не кормили и не давали воды.
Когда мы доехали, я уже едва могла разлепить глаза от бессилия. Нас начали выкидывать из вагона, как котят: кого за руку, кого за ногу…
Первым, что я увидела в том месте, была двойная проволочная ограда и деревянные строения за ней. Сначала у нас отобрали все вещи и одежду: то, что представляло ценность для немцев, отправляли в Германию, а остальное сжигали. Затем нас затолкали в баню, где всех помыли: отдельно мальчиков и девочек, и стали брить налысо. Я закричала, ведь у меня были длинные, красивые волосы. Меня жестоко избили, отбили легкие. После, во время кашля, у меня текла кровь изо рта. Волосы им нужны были для наполнения матрасов немецких моряков.
Из бани нас, голыми, погнали в дом, где заставили встать в две очереди. Униженные, избитые, лысые и голодные мы стояли в этих колоннах безликих созданий и ждали своей участи. Впереди были два кабинета, оборудованных в лаборатории. Когда я зашла в кабинет, меня посадили на стул, а руку просунули в отверстие в перегородке. Я не знала, что со мной делали, но мне было больно, а потом я упала в обморок. Очнулась я от того, что получила сильнейшую пощёчину. Меня отволокли в барак и пнули внутрь.
Трудно подобрать название тому, что я увидела, но если и есть где-то на Земле ад, то в том барке точно был он. Это не передать словами, это просто нужно было видеть. Я никогда, никогда этого не забуду. Здесь была смерть, только смерть. У Бога, видимо, был выходной. Сотни детей от восьми лет одновременно стонут, плачут, зовут на помощь, страдают. Кто-то кричит, кто-то смотрит в потолок своими огромными, ввалившимися глазами и тихо шепчет «мама», кто-то прижимает к груди свою маленькую сестренку и пытается остановить у неё кровь от побоев и успокоить. Мне было страшно. По сравнению с этим ужасом моя жизнь в Ленинграде была просто сказочной. Я села в угол и стала думать, как отсюда выбраться. «Это невозможно!» — сказала мне девочка Катя и присела рядом со мной. Ей было 14 лет, она была очень худенькой, с впавшими глазами, высохшими руками, похожими на грабли. «Что невозможно?» — поинтересовалась я. «Выбраться отсюда. Не удивляйся, все об этом думают в первый день». И она мне рассказала всё, что знала об этом месте.
Я попала в донорский лагерь в деревне «Красный берег». В этом лагере были только дети славянского происхождения от восьми до четырнадцати лет. Мы были нужны фашистам в качестве доноров и рабов. Оказывается, на въезде в лагерь у нас брали кровь для того, чтобы определить группу и качество крови. Тех, кто был непригоден для сдачи крови, отправляли на работу, а тех, кто и на работу не подходил, убивали. Кровь могли брать до двенадцати раз в день — немцам постоянно делали операции. Большинство выживало только несколько недель, максимум — пару месяцев. Иногда дети становились разовыми донорами — у них выкачивали всю кровь за один раз. А если ребенок подавал после этого признаки жизни, ему смазывали губки ядом и бросали в общую кучу, а потом сжигали на костре в форме свастики.
На следующее утро фашистский надзиратель с ружьём наперевес пришёл за мной и отвёл в лабораторию. Пока я стояла в длинной очереди за медленной смертью, видела, как вынесли пятерых ребят, в том числе и Катю, и выкинули их в яму. Увидев всё это, я окончательно осознала, что ни жалости, ни сострадания от этих извергов не дождешься. Я была в ужасе. Тогда я поняла, что единственный способ выжить — это давать им кровь и исправно работать.
Это были жуткие дни. Унизительные, нечеловеческие условия. Рабский труд, постоянный голод. Нас целый день били. Ходить шагом запрещалось, нужно было бегать. За любую провинность косой взгляд, попытку побега — убивали. Немцы считали себя высшей расой, нас они называли свиньями.
Каждый мой день начинался с одного и того же надзирателя. Его лицо — круглое, красное — впилось в память на всю жизнь. Замученная до смерти, я уже не была похожа на человека. Я проводила ночи не понимая, сплю я или бодрствую. Когда живешь в таком ужасе, перестаешь воспринимать всё вокруг. Ты будто находишься в собственном тоннеле. Ты можешь сидеть рядом с трупом друга, с которым общался ещё вчера, и спокойно есть свою еду. Дойдя до крайней степени истощения, многие ели паразитов, которых снимали со своего тела. Постоянно голодные, истощенные, измотанные, мы были почти мертвецами. Мы не знали, когда придёт конец нашим страданиям.
Меня начала мучить сильная боль в ноге, я больше не могла ходить. Однажды утром я проснулась и увидела, что у меня порван ботинок. Стопу раздуло, она стала раз в пять больше, из дыр в ботинке тёк гной. Мои шансы на выживание стремились к нулю, ведь фашистам не нужны больные доноры. Я постоянно молилась и думала: «Я должна выжить!»
Однажды, во время работ, мы услышали звук пулемётной очереди, потом увидели танк. Это было лучшее, что я когда-либо видела. Когда немцы заметили русских солдат, они хотели нас ликвидировать: подорвать или сжечь, но они не успели. Наши солдаты так быстро их погнали, что они удрали, и мы остались живы. Мы были свободны. Мы больше не были рабами.
Прошло уже много лет, но мне всё еще снятся кошмары. Сны, в которых ко мне приходит краснолицый фашист и ведет меня в лабораторию. Несмотря на то, что всё уже позади, я каждую ночь вижу садистов, которые пьют невинную детскую кровь. Золотую кровь.

Автор: Julia Melnikova
Фото: «Историческая правда»
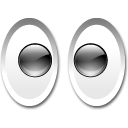 2 216
2 216